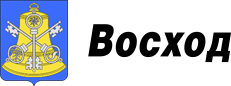Пригородное: посёлок, которого нет. Исторические факты и свидетельства очевидцев.
Рассказ краеведа Вячеслава Ахтарьева о посёлке Пригородное на Сахалине. Японская гимназия, пограничная комендатура, школа, фельдшер и уникальный павильон «хоандэн» — воспоминания о жизни до строительства СПГ-комплекса.
Сегодня уже трудно, во всяком случае молодому поколению, представить ландшафт этого места без производственного комплекса. А между тем, в 60–80-е годы картина тогдашнего поселка разительным образом отличалась от того, что предстает взору в настоящее время.
…Под колесами автомобиля, огибая производственный комплекс «Пригородное», стелется шоссейная дорога. Мы с краеведом Вячеславом Ахтарьевым направляемся к крутому обрыву, где территория завода упирается в ограждение, сооруженное из аэродромных железных плит с протянутой поверху проволокой. Забор вьющейся змейкой вдоль тропинки уходит с обрыва вниз, к морю. Здесь – конечная точка территории завода. Небольшая (100-150 метров) полоска прибрежной полосы приглянулась отдыхающим, полюбившим это место за мелкий песок и удобный заход в море.
Въезжаем на площадку, на которой оборудована автомобильная стоянка для автотранспорта работников предприятия. Как человек,который провел большую часть своего детства в поселке Пригородное, Вячеслав Сафарович хочет на месте показать корреспонденту газеты места, где в советское время была другая жизнь, разительно отличающаяся от сегодняшней.
На небольшом, примерно 150 на 150 метров, пространстве рядом с пунктом охраны производственного комплекса в послевоенное время размещался один из значимых для жизни островного края объектов – здание пограничной комендатуры, откуда осуществлялось взаимодействие с погранзаставами юга острова. Рядом с комендатурой, на месте, где раньше, во времена каторги, располагался цех по изготовлению кирпича, был оборудован ангар. В нем находился гараж для служебных автомобилей, хранились запасы угля. Недалеко от здания комендатуры стояла небольшая лесопилка, где заведующим был отец Вячеслава Ахтарьева после демобилизации из армии. Служил он в пограничных войсках.
Еще дальше, если продвигаться по дорожке вдоль обрыва в сторону Озерского, находились два небольших домика, в которых жили семьи пограничников. Около них – помещение узла связи. Здесь же, в шаговой близости, располагалась конюшня с лошадьми. Также в ней хранились телеги, сани, различные ездовые принадлежности. И, как венец всего этого великолепия, на выезде с площадки на шоссейную дорогу была сооружена настоящая шлакозаливная русская баня. Воду в нее завозили водовозкой. И по субботам – банный день. Мылись в ней работники комендатуры и члены их семей.
Дальше, в сторону Озерского метрах в трехстах от комендатуры, над обрывом, стоял дом японской постройки, где проживала семья Ахтарьевых. Сразу за небольшом огороде, засаженном картофелем и овощными культурами, в бурьяне Вячеслав в детстве нашел часть крыла и хвостовое оперение советского самолета, по всей вероятности подбитого ПВО японцев во время боев за освобождение Южного Сахалина.
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Комендантом комендатуры был полковник Иовлев. С его сыном, Юрием, который, как и Вячеслав Ахтарьев, учился в школе поселка Пригородное в параллельном классе (непосредственно о японской гимназии в Мерее и советской школе в поселке – немного позже), у старожила нашего района связана масса занимательных историй.
Вот только две небольших зарисовки, отложившихся в памяти краеведа. Мальчишки крепко сдружились между собой, вместе ходили в ленинскую комнату комендатуры крутить пластинки, смотреть фильмы, брать в библиотеке книги. Старший лейтенант комендатуры Пивоваров, который и познакомил пацанов, часто брал их с собой в поездки по погранзаставам. Неизвестно, когда и каким образом освоил Юрка трудную науку игры в бильярд, но игроком он был виртуозным. Когда играл с пограничниками, то его выверенными точными движениями кия, отправляющего в лузы шар за шаром, можно было только любоваться и восхищаться. У погранцов имелась своя своеобразная «фишка», связанная с мастерством паренька. Когда очередной проверяющий после трудного дня решал расслабиться игрой в бильярд, ему в напарники предлагали Юрку. Глядя на небольшого щуплого подростка, проверяющие соглашались, мысленно предвкушая легкую для себя добычу. Заключались пари на победу. И начиналось представление! Все в бильярдной собирались около стола, где проходил поединок, и следили за тем, насколько быстро расправлялся мальчишка со своим оппонентом. Итог для проверяющих всегда был плачевный. Военнослужащие же получали истинное удовольствие.
Как дети пограничников, Вячеслав и Юрий хорошо стреляли, бегали на лыжах. На погранзаставах существовало своеобразное негласное наказание «срочников», неважно отстрелявшихся и не выполнивших нормативы по стрельбе. В случае их неудачной стрельбы на огневой рубеж приглашались мальчишки. Они без проблем стреляли по мишеням из автоматов на отлично. Пограничников стыдили: пацаны справляются на все сто со стрельбой! А вы (следовал вздох и взмах рукой). Все это делалось, конечно же, в воспитательных целях и обычно приводило к хорошему эффекту. Отца Юрия, полковника Иовлева, вскоре перевели на Курилы. Друзья на первых порах писали друг другу письма, но постепенно переписка прекратилась. С большой долей вероятности друг детства, Юрий Иовлев, может быть причастен к большому научному открытию, связанному с изобретением прибора ориентации при полете в космосе, установленному на вошедшем в историю космонавтики космическом корабле-челноке «Буран». Но об этом – в следующий раз, когда Вячеслав Ахтарьев окончательно уточнит результаты поисков…
ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Сегодня уже ничего не напоминает о бывшей японской гимназии (в послевоенное время – советской школе), располагавшейся до середины 60-х годов в поселке Пригородное, на территории сегодняшнего производственного комплекса, аккурат на траверсе центральной проходной. Японская гимназия, впоследствии преобразовавшаяся в советскую школу, представляла собой длинное деревянное одноэтажное здание. От одного конца учебного заведения к другому тянулся коридор, по одной стороне которого были установлены большие окна, по другой же – классные комнаты. К школе было пристроено небольшое помещение, в нем хранились дрова. Внутри пристройки был бетонный колодец для воды. Вода использовалась для хозяйственных целей, а также предназначалась для случаев возникновения пожара. Около школы было открытое пространство, которое ученики использовали для игры в футбол. На самом углу импровизированного «стадиона» находилось небольшое бетонное строение. Во время перемен ученики забегали в него и спорили, что же это было такое? Склонялись к тому, что – дот.
И только значительно позже, уже будучи взрослым, Вячеслав Ахтарьев ознакомился со статьями сахалинских историков и краеведов, опубликованных в периодическом издании «Вестник Сахалинского музея». В одном из его выпусков (№ 5, 1998 года) была размещена статья Игоря Самарина под названием «Материальные остатки идеологии тенноизма на Южном Сахалине». Из нее Ахтарьев узнал, что в первой половине XX века на острове (да и по всей Японии) на территории начальных школ японцы ставили огнеупорные павильоны для хранения особо ценных предметов. Что за предметы? Прежде всего, это портреты членов императорской семьи и копия «Императорского рескрипта об образовании», изданного в 1890 году и отражающего основные принципы идеологии тенноизма, закрепленной по конституции.
«Тенноизм» – это процесс усиления культа Императора и его авторитета в Японской Империи. В случае пожара или любого иного бедствия «святыни», хранящиеся в павильоне, следовало спасать в первую очередь. В школах составлялся график дежурств учителей для охраны содержимого павильонов, а сдача дежурства сопровождалась особым ритуалом.
Помимо непосредственно сохранения предметов, эти сооружения служили для почитания Императора Японии (как считалось, потомка самой богини Аматэрасу). На всех важных школьных мероприятиях директором школы зачитывался упомянутый рескрипт об образовании, школьники обязаны были знать его текст. На таком мероприятии, проходя мимо портретов Императора и Императрицы, было принято глубоко и почтительно им кланяться. Директор учебного заведения отвечал головой за сохранность имущества. Бывали в истории даже случаи самоубийства ввиду утраты ценных вещей. Если на портрете Императора появлялись пятна, руководство могло потребовать объяснений от директора. Назывались эти павильоны, как писал в своей статье И. А. Самарин, – «госинэйхоандэн», или просто «хоандэн».
Непосредственно в Корсакове подобный «хоандэн» сохранился на месте бывшей японской гимназии, в районе детского сада «Ромашка». В чем уникальность этих объектов? Они достаточно малочисленны и индивидуальны, в этом и состоит их историческая и культурная ценность.
В России памятники японской материальной культуры первой половины XX века сохранились только на территории Сахалинской области, в том числе и в нашем городе. Что касается хоандэн, находящегося в свое время около школы в Пригородном, то вскоре после начала строительства завода СПГ его перевезли на территорию областного краеведческого музея.
ДРУГ ДЕТЕЙ
Вернемся в Пригородное. Дальше за школой, ближе к обрыву, находилось небольшое здание фельдшерского пункта. В детстве, выходя из дома, Вячеслав по старой японской дороге, ведущей из Пригородного в Озерское, ежедневно проходил мимо него. Память краеведа до сих пор хранит имя фельдшера, друга всех учеников школы, – Деркач Анна Николаевна, в прошлом опытный военный врач. Детишки при малейших признаках простуды бежали к ней за справками для освобождения от физкультуры. Рядом с фельдшерским пунктом, среди многочисленных японских домиков, в которых проживали жители поселка, находилась пекарня, где выпекали хлеб и вкусные булочки. И совсем рядом – продуктовый магазин, в котором можно было приобрести и различные хозтовары. Бывало, ученики на большой перемене бегали сюда за чем-нибудь вкусненьким (при наличии лишних денежных знаков!) Но, как правило, таковых у детей не водилось. Зато им родители ежедневно давали в школу аж… по 15 копеек.
ПЯТНАДЦАТЬ КОПЕЕК
Именно в такую сумму обходился полноценный детский обед в школе: первое, второе, компот, пара кусочков хлеба. В среду был рыбный день, обед считался более сытным. Вероятно поэтому, по средам родители выдавали своим чадам не по 15, а по 20 копеек. Как уверяет Вячеслав Ахтарьев, детвора всегда была довольна и, главное, – сытая!
В деревянной засыпной школе, хорошо держащей тепло, было еще одно «стоящее» дело – дежурство по классу. В зимнее время, в период отопительного сезона, таковыми почему-то всегда оказывались мальчишки. Дело в том, что в каждом классе стояла буржуйка – небольшая железная печка, трубой выходящая в одно из окон классной комнаты. В нее систематически необходимо было подкладывать дровишки. И именно дежурные имели право во время урока, не спрашивая разрешения у учителя, встать и гордо прошествовать по классу, мимо учеников, корпящих за партами, к буржуйке, подкинуть в нее пару-тройку поленьев, и также горделиво вернуться на свое место. Ты занят настоящим делом! Ты нужен своему классу!
О СОВМЕСТНОМ ОБУЧЕНИИ И ЗАКРЫТИИ ПОСЕЛКА
Вячеслав не застал время, когда в школе, помимо русских учеников, учились и японские дети. Но старшеклассники, заставшие совместное обучение, рассказывали, что учились русские и японцы в разных классах. На переменах же был полный интернационал. Все бегали вместе. Так же как и все детишки на свете, дружили, ссорились, и снова начинали дружить.
Позже, в середине 60-х годов, в поселке рядом со старой построили новую школу. Мальчишек на уроках труда также привлекали к ее строительству – они обивали планками стены, чтобы затем их можно было оштукатурить. Просуществовала новая школа недолгое время.
С закрытием леспромхоза и отсутствием работы количество жителей поселка стало стремительно уменьшаться. А здесь – еще одно несчастье – темной ночью сгорел цех по производству агар-агара. Злые языки утверждали, что это дело рук японца, бывшего военнопленного, оставшегося после освобождения в Пригородном. Вскоре после пожара он таинственным образом исчез. Таким образом, и учебное заведение оказалось не у дел. Семья Ахтарьевых в 70-х годах переехала в Корсаков, где Вячеслав, спустя время ушел в армию. После же демобилизации поступил в 9 класс вечерней школы и успешно закончил десятилетку.
Что касается поселка, то он прекратил свое существование в 1971 году, когда из него выехали последние жители. Кто-то в поисках лучшей жизни уехал на материк, кто-то переехал в другой леспромхоз, а кто-то – остался в Корсакове. Видать, оставшиеся уже не представляли себе жизни без родного города. Впрочем, это уже другая история…