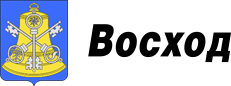Дверь в прошлое
Каторга, революция, репрессии, Великая Отечественная война, восстановление Сахалинской области – через все этапы истории нашего края прошли несколько поколений одной семьи, родословную которой удалось восстановить сотруднику Корсаковского историко-краеведческого музея Татьяне Пинкиной.
Актуальность этой работы в рамках подготовки к 75-летию Сахалинской области подчеркивает директор музея Анна Бабушок:
— Большая история страны или региона складывается из судеб конкретных людей, из жизненных путей, которые они прошли, поступков и дел. Поэтому презентацию Татьяны Пинкиной с интересом слушали и участники VII-й Международной научной конференции, посвященной 160-летию со дня рождения Чехова, 130-летию со дня его путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием, и посетители нашего музея – люди разного возраста и образования.
— Все началось с того, что однажды в дальнем углу шкафа мы нашли завернутый в материю и напоминающий небольшую книгу предмет. Когда материю развернули, оказалось, что это пачка фотографий. Судя по одежде, запечатленных на них мужчин и женщин, снимки были сделаны в период времени от чеховских времен до 30-х годов XIX века, — рассказывает Татьяна Юрьевна. — Но кто были эти люди? Какое отношение они имели к нашей семье?
Чтобы ответить на эти вопросы, сама Татьяна, ее муж и дочь провели настоящее расследование. Собирать историю семьи – трудная, кропотливая, но одновременно увлекательная работа, в результате которой Пинкиным удалось восстановить утерянные семейные связи и открыть немало интересных деталей в укладе жизни людей, обосновавшихся на Сахалине более 130 лет назад.
— Начать лучше всего с фотографии, на которой девушка в белом платье сидит рядом с пожилой женщиной в темном платке, – продолжает рассказ автор исследования. – Эта женщина – Харитина Ефимовна Ильина. Ее можно назвать прародительницей, или, если хотите, основательницей нашей семьи. Ей выпала очень горькая, даже трагичная жизнь. Во многом по ее собственной вине. Да и в том, как она попала на Сахалин, повода для гордости нет.
КАТОРЖАНКА
Харитина Ильина родилась и до 30 лет жила в пригороде Умани (сейчас – Черкасская область). Была вдовой солдата из крестьян. Больше о ней и ее жизни в родном городе ничего неизвестно. Но можно уверенно предположить, что был у нее вспыльчивый и решительный характер: однажды ночью, да еще, возможно, подговорив сообщника, она подожгла соседский дом. Как бы больно не обидели соседи одинокую солдатскую вдову, ее поступок ничем оправдать нельзя! Дома тогда строились в основном из дерева, а в южных районах еще и под соломенными крышами. Достаточно было одной искры, чтобы сразу несколько улиц выгорели до пепла, и десятки семей остались без крова или могли погибнуть.
Тяжелое преступление, за которое последовало суровое, но, надо признать, справедливое наказание.
В ведомости справок о судимости издания Министерства юстиции в записи под номером 33751 значится, что Харитина Ефимовна Ильина приговорена Окружным судом по 1606 и 1607 статьям Уложения в каторжные работы на 6 лет. Исполнено 17 декабря 1889 года.
Когда точно и каким путем попала наша горемыка на Сахалин – неизвестно. В переписи, проведенной Антоном Павловичем Чеховым в 1890 году, ее имени нет. Значит, попала она на Сахалин только года через два после вынесенного приговора. Заключенные доставлялись на остров двумя путями: шли этапом через Сибирь (в таком случае время пути как раз и растягивалась на два года), или приезжали, совершив кругосветное плавание, на судах из Одессы, длившееся полтора месяца. В любом случае невыносимые условия, которые не каждый мог пережить, голод и болезни безжалостно выкашивали всех слабых. Но у Харитины хватило здоровья, сил и желания жить, чтобы добраться до главной «тюремной столицы» царской России.
БЕЗДОННАЯ РЕКА ГОРЯ
Ступив на каторжную сахалинскую землю, вымотанная долгой дорогой, Харитина не знала, что никуда отсюда уже не уедет, что впереди у нее еще лет 20 жизни, что здесь родятся и вырастут шестеро ее детей… В общем, что именно на Сахалине после 30 лет ее жизнь только начинается. Вопрос только в том, какая это могла быть жизнь?
Великий русский писатель Антон Чехов, известный журналист Влас Дорошевич и другие авторы художественных и публицистических произведений о Сахалине тех лет были возмущены бесправным положением женщин, обреченных на беспросветную жизнь, полную унижений и обид.
О судьбе одной из них Дорошевич написал так: «Всю ее можно охарактеризовать двумя строками поэта: «Мало слов, а горя реченька, горя реченька бездонная…».
На каторжные работы женщины не выходили. Даже тех, кто уже на Сахалине умудрялся совершать преступления, оставляли без наказания. Зато их в самом прямом смысле «выпихивали» в сожительницы поселенцам, не интересуясь, нравится ей или нет ее «хозяин». Сельское хозяйство-то надо было развивать, а разве может крестьянская изба обойтись без бабьих забот? Если же сожитель умирал или уезжал на материк, женщина вынуждена была переходить в другую избу, к другому невенчанному мужу.
«Не пахнуло ли чем-то затхлым на вас? Отжитым временем? Крепостным правом, когда так спокойно отдавали, играя чужой жизнью и сердцем?» — спрашивал своих читателей Влас Дорошевич.
Но ведь сила и слава русской женщины не только в том, что, остановив одной рукой скачущего коня, другой рукой она спокойно открывала дверь в горящую избу, а еще и в том, что в самых невероятных, неприспособленных для жизни условиях, могла свить теплое семейное гнездо, родить, обогреть и выходить детей.


МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
— Судя по всему, наша прапрабабушка жила в селе Рыковском (ныне Кировском Тымовского района), где у нее родилось шестеро детей – три сына и три дочери: Владимир, Ульяна, близнецы Екатерина и Августа, Роман и Николай, — предполагает Татьяна Пинкина. — Все дети были незаконнорожденные и носили фамилию матери – Ильины. И отчества у всех были одинаковые – Николаевны, Николаевичи. Значит, она не была в официальном браке.
Но из выписок метрических книг видно, как менялся ее статус отбывающей наказание на каторге. В 1891 году она ссыльнокаторжная. При рождении дочерей в 1894–1895 годах значится как поселенка, а в 1898 году – крестьянкой. Действительно, Харитина Ильина была причислена из поселенок в крестьяне Тымовского округа о. Сахалин в июне 1897 года. Но с кем она сожительствовала, кто отец ее детей, установить не удалось.
Не удалось и не надо. Тем более что все тот же Дорошевич изумленно восклицал: «Каких, каких только пар не сводит вместе судьба на Сахалине! ...Крепко схватившись друг за друга, они выплыли в этом океане грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли друг друга.».
Может быть, и выпало каторжанке -поселенке-крестьянке Харитине испытать женское счастье и великую любовь. Теперь об этом уже не узнаешь.
Но все ее дети выросли крепкими, здоровыми и очень достойными людьми. Получили хорошее для своего времени образование. Все до конца жизни сохраняли крепкие семейные связи и в трудный час помогали друг другу. И за этим чувствуется свет материнской любви, заботы, детской памяти о теплом, надежном доме.
Так почему бы нам не надеяться… Да нет! Мы со стопроцентной уверенностью можем надеяться, что Харитина Ефимовна, пройдя через столько испытаний, стала сильной, верной и любящей женщиной.
На ее единственной сохранившейся фотографии, с которой мы начали рассказ, ее дочери Екатерине лет 15-17. Значит, где-то в 1910 году она еще была жива.
Несмотря на то, что наша героиня попала на Сахалин не по своей воле, ее дети и внуки полюбили край, где родились, жили здесь, честно трудились, пережили революцию, коллективизацию, подвергались репрессиям, воевали, защищая Родину, были представителями сахалинской интеллигенции.
Но об их судьбах мы расскажем в других выпусках нашей газеты.
Ольга ЕЖЕНКИНА
Фото из семейного архива Пинкиных