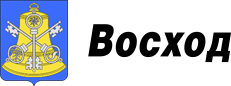Вспомним, как всё начиналось
Рассказ о нескольких поколениях семьи Якушиных мог бы стать основой для увлекательного сериала с военными приключениями, удивительными поворотами судьбы и большой любовью. Но для нас, корсаковцев, особенно важно, что значительная часть этой семейной истории связана с нашим приморским городом.
Вот уже четвертое поколение династии Якушиных живет и трудится в Корсакове. Сегодня они не могут точно сосчитать сколько их – родных, двоюродных, троюродных братьев и сестер, племянников, внуков. Если взять тех, кто обосновался в других сахалинских городах, то наберется более ста человек.
Есть среди них педагоги, рыбаки, работники торговли, культурной сферы, бизнесмены, военнослужащие… Но всех их отличают такие фамильные черты, как трудолюбие, душевная щедрость; все они талантливы, любят петь, танцевать, занимаются садоводством, рукоделием, спортом, принимают активное участие в общественной жизни.
Это у них от родоначальников династии – Георгия и Евдокии Якушиных, которые вместе с шестью детьми от 28 до 6 лет приехали в Корсаков в ноябре 1948 года. Затем к ним присоединились еще сын и дочь, немного задержавшиеся на материке.
Но «сахалинская история» этой семья началась гораздо раньше, в самом начале прошлого века.
ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
В 1905 году во время Русско-японской войны на Сахалине погиб военный моряк Егор Босулаев.
– Как он погиб, этого мы не знаем. Очень возможно, на берегу Тунайчи в отряде Гротто-Слепиковского. Всякий раз, когда нам удается побывать на мемориале, посвященном героям-партизанам, мы вспоминаем и нашего прадедушку, – рассказывает правнучка моряка Ольга Макерова.
А где-то далеко под Смоленском после гибели Егора Босулева осталась круглой сиротой его маленькая дочь Дуня. Девочку приютила у себя сердобольная поповская семья. Не усыновили, но все-таки, не дали девчушке пропасть и относились к ней хорошо. В поповском доме сиротка росла, как тогда говорили, «при кухне». Помогая взрослой прислуге, Дуня научилась вкусно готовить, читать, писать, да еще и арифметику освоила в таком объеме, которого хватало, чтобы в то время считаться человеком грамотным.
Но когда в России началась революция, а затем Гражданская война, девушка без колебаний сделала свой выбор: только за большевиков! Только с теми, кто борется с богатеями и угнетателями за счастливую жизнь для бедных!
В 1918 году по всей Смоленщине заполыхали контрреволюционные выступления, и Дуня стала связной одного из отрядов Красной армии. Когда красноармейцы были вынуждены на какое-то время укрыться в лесу, добывала и относила им провизию, передавала распоряжения из штаба, а в штаб доставляла рапорты командира отряда Георгия Якушина. Девушка, конечно, замечала, что товарищ Якушин очень смущается в ее присутствии и как-то особенно старательно натягивает на голову кепку. «Это он, наверное, чтобы покрасивее выглядеть, – думала Дуня». Она догадывалась, что нравится красному командиру. Но в своих чувствах к нему разобраться не могла. Как все, кто рано потерял родителей, она сразу же откликалась на каждое ласковое слово и теплый взгляд. Но по характеру была очень серьезной и строгой. Поэтому никаких заигрываний или вольных разговоров никогда бы не допустила. А как без разговоров понять, какие у товарища Якушина на счет нее намерения, и как ей с ним себя вести?
Их непростые отношения быстро подметили девчата из той деревни, где располагался отряд, и девушке житья не стало от их подшучиваний. «Дуня, а знаешь, почему он перед тобой все время в кепке ходит? Да потому что лысый, как коленка», – высмеивали они влюбленного командира. – Да он же лет на 10 тебя старше, а хвост распускает, как молодой!».
Но одних насмешек девушкам показалось мало, и они придумали совсем уж коварный план. Договорились сесть на скамеечку так, чтобы оставалось только немного места с краю, и пригласить на это место Георгия. Далее по их задумке события должны были развиваться следующим образом: только он сядет, они все дружно вскочат, скамейка накрениться, командир упадет на землю, тут-то кепка с него и слетит!
– Не надо, – пыталась протестовать Дуня.
Но развеселившихся девиц было не остановить. И ведь все произошло ровным счетом так, как и планировалось! Георгий подошел, принял притворно вежливое приглашение присесть, после чего грохнулся на землю, а его драгоценная кепка сорвалась с головы, обнажив огромную, от лба до затылка лысину.
С довольным хохотом озорницы бросились в разные стороны. И только Дуня осталась стоять рядом.
Поднимаясь с земли и смущенно отряхивая ненужную теперь уже кепку, Георгий сделал вывод:
– Значит, не пойдешь ты за меня, Дунюшка.
– Пойду! – с жаром ответила Дуня. И тут же поняла, что давно уже так решила, да самой себе боялась признаться.


СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Георгий и Евдокия поженились. В этом месте так и хочется написать, что стали они, как говорится, жить поживать и добра наживать. Вот только о наживании добра молодая чета Якушиных мало беспокоились. В свой первый дом Георгий ничего не мог принести из имущества, что уж говорить о бесприданнице Дуне. Но ведь известно, что для счастливой семейной жизни надо, чтобы супруги не только смотрели друг на друга с любовью, но еще и смотрели в одну сторону по всем главным жизненным вопросам.
Супруги Якушины во всем подходили друг другу. Оба закаленные бедами, трудолюбивые, убежденные партийцы, беззаветно верящие родной советской власти и ее вождям. Георгий Николаевич стал коммунистом по «Ленинскому призыву» (термин в советской историографии, которым обозначают начавшийся после смерти В. И. Ленина массовый набор в РКП(б) в 1924 году).
Еще до революции он освоил слесарное дело на Коломенском заводе. Вернувшись с Гражданской войны, доучился на автослесаря. Когда молодой советской стране понадобились свои руководители, прошел подготовку на «красного директора».
А когда в ноябре 1929 года было принято решение направить на работу в колхозы 25 тысяч «передовых» городских рабочих, его назначили директором машинно-тракторной станции в селе под Локнянском в Калининской области.
И всегда рядом с ним была его любимая Дуня. Вот кто достоин бескрайнего восхищения! Один за другим в семье рождались дети – Николай, Владимир, Вера, Геннадий, Иван, Александр, перед самой войной родилась Галочка. Муж сутками пропадал на работе, все заботы матери и хозяйки ложились на плечи жены. А ведь у женщин тогда не было никакой домашней техники, только пара собственных рук. Она еще и работать умудрялась! Была завскладом скобяными изделиями и одновременно заведующей промтоварным магазином.
Да как работать! К 1933 году у нее накопилась целая коллекция почетных грамот, а в самом тридцать третьем ей была вручена ярко-красная книжка «Билет ударника».
АНЕКДОТ, ОТ КОТОРОГО ПЛАКАЛИ
В середине 30-х годов прошлого века в стране раскручивался и набирал обороты маховик репрессий, арестов и расстрелов. Про эти годы в народе сложился полный черного юмора анекдот: «Живем, как в трамвае едем, – половина пассажиров сидит, половина стоя дрожит и ждет, когда придет их очередь сесть».
Рассказывали этот анекдот только шепотом на ухо и только самым близким людям. Но при этом не смеялись, а плакали горьким слезами.
Георгий Николаевич всегда был и оставался убежденным коммунистом. Всю свою жизнь мог бы уместить в два предложения: «Сначала оставил станок, чтобы с оружием в руках устанавливать советскую власть. Потом, сложив оружие, работал, чтобы советскую власть укреплять». Но в то же время он трезво оценивал обстановку в стране. Поэтому однажды, улучив момент, когда их никто не мог услышать, сказал жене: «Вот что, Дуня, готовься, может быть, и за мной придут, сама знаешь, кто… Ты знаешь, мне себя винить не в чем. Так и детям постарайся объяснить, чтобы никогда во мне не сомневались.».
Со стороны казалось, что супруги Якушины живут обычной жизнью. Работали с полной самоотдачей, воспитывали детей в любви к своей великой Родине – Союзу Советских Социалистических Республик, первой в мире стране, где власть в свои руки взяли рабочие и крестьяне. Тревогу и ожидание надвигающейся беды они, как и все свои радости и печали, разделили напополам, и больше ни с кем ими делиться не стали.
Дети их росли веселыми и счастливыми. Самому старшему Николаю уже исполнилось девятнадцать. Он был очень похож на отца. Комсомолец, спортсмен, заводила и активист во всех общественных делах. Ему предложили поступить в школу подготовки командиров РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), чем он очень гордился. Для поступления все было готово. Оставалось взять кое-какие бумаги в горкоме комсомола. А тут и отца вызвали в горком партии. Так что в город они поехали вместе. И там, прежде чем разойтись по своим ведомствам, отец-коммунист впервые заговорил с сыном-комсомольцем о том, что давно носил в себе.
– Как закончим свои дела, встретимся вот на этом же месте, – сказал он. – Но, если я не приду, меня не жди, и уж тем более не вздумай искать, а во весь дух мчись в село и скажи матери, что… Да она сама знает, что надо делать. Ты только успей предупредить.
Несмотря на строгий наказ отца, Николай долго его ждал. Надеялся, что он все-таки придет, и они с легкой душой вернутся домой и сообщат матери радостную новость о том, что пора собирать сына на учебу.
Ждал, да не дождался. И тогда, сломя голову, помчался в село. Успел предупредить мать, и Евдокия Георгиевна смогла собраться с мыслями и силами перед тем, как к ним пришли с обыском.
ОТ ОТЦА НЕ ОТКАЖЕМСЯ!
Дом их обыскивали тщательно, причем не один раз. Но ничего, что могло представлять ценность как компромат, не нашли. И все равно «Ударника труда» Евдокию Егоровну и пятерых младших детей выселили из дома. Благо, где-то в лесу нашлась сторожка, давно уже стоявшая без хозяина. Там семья Якушиных и поселилась, не зная толком, чем будут питаться, зато подальше от глаз людских.
Суровее всех советская власть, за которую отец и мать готовы были жизнь отдать, обошлась со старшими сыновьями. Сначала Николая и Владимира заставляли отказаться от отца, как от врага народа. Напоминали им, что они комсомольцы, и должны прежде всего быть верными своему долгу, а не каким-то сыновьим чувствам. Николаю даже обещали, что если будет вести себя правильно, то его направление в школу красных командиров останется в силе. Но оба сына твердо стояли на своем: «Отец – честный человек и настоящий коммунист. От отца никогда не откажемся!».
И оба получили за свои стойкость и мужество соответствующие «награды» – 19-летний Николай был отправлен на Колыму, 17-летний Владимир – на Соловки.
НАДО ИДТИ ВПЕРЕД!
Братьев Якушиных не освободили даже после того, как суд полностью оправдал их отца.
Да! Случилось какое-то совершенно невероятное чудо! Ведь тогда везунчиками считали себя приговоренные к пяти годам заключения. Большинство же из тех, за кем приходили «сами знаете кто», получали по 10, 15 и даже по 25 лет. И все чаще и чаще после 1937 года звучало: «приговорить к высшей мере наказания».
А Георгия Якушина неожиданно оправдали, освободили и даже из партии не исключили. Вот так сошлись над простым директором машинно-тракторной станции его счастливые звезды.
Спустя более 20 лет, Евдокия Егоровна рассказывала внукам, как они с мужем и пятью детишками шли по селу, а односельчане при встрече опускали глаза. Но у некоторых все же хватало сил подойти, чтобы виновато сказать: «Прости, Николаич! Я тебя всегда уважал. А то, что наговорил на тебя следователю, так сам знаешь, как там «просить» умеют…».
– На это ваш дедушка только рукой отмахивался, мол: «Проходи! Не о чем говорить», – вспоминала Евдокия Егоровна.
Когда зашли в полностью разоренный дом, самые совестливые из соседей стали приносить, кто с полведерка картошки, кто огурцов в мисочке, кто пяток яиц. Георгий Николаевич велел жене все это выставить на стол, потом пройтись по селу и пригласить на эти угощения всех односельчан.
Когда же собрались те, кто решился прийти, он усадил их за стол и сказал:
– Что было – забыли. Не до прошлых обид сейчас. Время идет такое, что и виноватым, и невиновным достанется по полной. Всем надо собраться вот так (тут он крепко сжал кулак) и идти вперед!
Через месяц другой после этого разговора началась Великая Отечественная война. Георгий Якушин, которому уже исполнилось 49 лет, сразу же ушел добровольцем на фронт.
ВСЮДУ БЫЛА СМЕРТЬ
В первые месяцы войны немецкая армия наступала стремительно. Евдокия Егоровна понимала, что попасть в руки фашистов для нее и ее детей означало бы верную гибель. Поэтому вскоре после ухода мужа, она усадила на подводу детей, погрузила самое необходимое из вещей и еще несколько крепко забитых тяжелых ящиков. «Егоровна, что за ящики? – спрашивали соседи. – Лучше бы что-то из одежи для детей взяла». Евдокия отвечала: «Гвозди, скобяной товар. Не оставлять же все это немцам.».
Подводы, люди, люди, подводы… Из городов, к которым приближались немцы, днем и ночью нескончаемым потоком уходили беженцы. А в небе то и дело раздавался завывающий шум от моторов «юнкерсов». Они летели бреющим полетом и с высоты 15 метров расстреливали детей, женщин, стариков… После каждого налета немецких летчиков оставшиеся в живых быстро относили на обочину дороги убитых, сваливали телеги с мертвыми лошадьми. Задерживаться, чтобы проститься или похоронить, не было времени, ведь самолеты с крестами на крыльях снова и снова возвращались за новыми жертвами.
После очередной атаки Евдокия Егоровна решительно повернула свою подводу в лес.
Дня два они ехали по лесу наугад. Дети проголодались, младшие уже начали плакать. Вдруг к вечеру наткнулись на несколько военных палаток, за ними увидели грузовики и зенитки. Солдаты накормили семью Якушиных хлебом и кашей. Расспросили, откуда едут, где отец.
– На фронте, – ответил за всех Гена. – Может, вы его встречали? Нашего папу Георгием Николаевичем Якушиным зовут.
– Так у нас такой командир автоколонны есть. Позовите кто-нибудь сержанта!
И вскоре потрясенный неожиданной встречей среди леса, где формировалась их часть, Георгий Николаевич обнимал свою жену и детей. Когда, наевшись солдатской каши, ребятишки уснули, он все-таки не удержался от упрека:
– Дуня, зачем же ты через лес поехала? Это же опасно! И заблудиться можно, и на лихих людей можно нарваться.
– Сейчас всюду опасно, – ответила Евдокия. – С земли, с неба, со всех сторон смерть.
Утром еще до зари Евдокия с детьми поехала по дороге, подсказанной солдатами. А автоколонна, которой командовал Георгий, в составе воинской части двинулась по своему направлению.
И супруги Якушины расстались уже до конца войны.
В ТЫЛУ
Евдокия Егоровна вместе с детьми проехали еще долгий путь. Перенесли голод, холод, не раз попадали в опасные ситуации. Но всегда, как самую большую ценность, она берегла те несколько ящиков, которые увезла на своей подводе из села. «Бабушка, да зачем тебе нужны были гвозди?! Бросила бы эти ящики, сразу легче стало бы! – удивлялись внуки, слушая ее повесть о том, что пришлось пережить в детстве их мамам и отцам.». Евдокия Егоровна лукаво улыбалась: «Да разве я гвозди везла? Деньги это были! Всю выручку от склада и сельмага перед отъездом собрала. Пересчитала, уложила купюры в пачки, монеты в мешочки. И так везла, пока не удалось сдать все до копеечки в банк.».
В 1942 году Евдокия Якушина родила своего восьмого ребенка, дочь Валю. После чего семья поселилась в большом поселке Максатиха на севере Тверской области. Вскоре Евдокию Егоровну назначили заведовать пекарней, выпекавшей хлеб для фронта и тыла. На время своей работы по законам военного времени она, как и все работники, жила за колючей проволокой. Смены длились по 12-18 часов. Детей можно было увидеть только издали, на территорию пекарни их не пропускали. За младшими присматривала старшая дочь Вера. Но когда ей исполнилось 16 лет, она пошла работать в госпиталь, где и познакомилась со своим будущим мужем Федором.


НА ФРОНТЕ
Старший сын Николай, несмотря на пребывание в колымском лагере, считал, что ему повезло. Однажды заключенных построили на площади и объявили, что Родина дает им возможность искупить свою вину, сражаясь на фронте в штрафных ротах. Якушин сразу же сделал шаг вперед со словами: «Я готов!».
Он прошел всю войну. Был ранен. Но ему посчастливилось остаться в живых и вернуться в родительскую семью.
Георгий Николаевич дошел до Берлина. Был награжден медалью «За боевые заслуги», правительственными благодарностями и орденом Красной Звезды.
Как было написано в начале этой статьи, в 1948 году семья Якушиных, откликнувшись на призыв осваивать Дальний Восток, приехала на Сахалин. Позднее к ним присоединилась Вера с мужем Федором Белозеровым и тремя своими детьми, и Владимир, который был полностью реабилитирован и освобожден после 1953 года.
Как они жили и поднимали наш город в первые послевоенные десятилетия – это тоже очень захватывающая и поучительная история. О ней мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
Ольга ЕЖЕНКИНА
(продолжение следует)