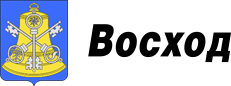От Турции до Сахалина: история Николая Самарина из Соловьевки. Часть 2
История жителя Корсаковского района Николая Самарина — от детства в Турции до работы ветеринаром и руководства сельским советом на Сахалине. Подробности — в материале «Восхода».
ШКОЛА ЖИЗНИ
Село-овцесовхоз Третийарзийский, Ставропольского края – здесь прошло детство Николая Самарина. Получилось так, что в первый класс советской школы он пошел только в 1962 году. Учился прилежно, все схватывал на лету, впрочем, как и в турецкой школе. Родители трудились на ферме, находившейся вдали от учебного заведения, поэтому на семейном совете было принято решение об отправке сына в интернат. В первый год он постоянно сбегал домой: пацаны – известно какие: то слово плохое скажут в адрес новенького, то обидят невзначай. Но с возрастом все стало на свои места – мальчика приняли, стали считать своим. Прошло уже более 60 лет, но до сих пор товарищи по интернату переписываются.На выходные родители забирали Колю домой, в воскресенье вечером отправляли обратно.
В сельском клубе он впервые попал в кино (в Турции об этом даже и не мечтал). В школе его последовательно приняли в октябрята, пионеры. В 14 лет Николай стал комсомольцем. В старших же классах ему доверили пост старосты интерната, у него были ключи от кладовой, где хранились продукты. Подростка уважали за честность, принципиальность, прямоту. Еженедельно он занимался покупкой продуктов, которые потом выдавал повару. Нареканий ни со стороны воспитанников, ни со стороны руководства не поступало.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА
Позади – школьные годы. Что делать дальше? Проживай семья по- прежнему в Турции, такой вопрос даже не поднимался бы: окончил пять классов, пожил некоторое время с родителями. А там – свадьба, и в 16 лет – самостоятельная семейная жизнь. В Советском Союзе же у молодых были большие перспективы.Ветеринар – об этой профессии герой нашего очерка никогда не мечтал. Но воля случая, точнее, главного ветеринара совхоза, увидевшего в выпускнике своего преемника, можно сказать, раз и навсегда изменила его дальнейшую жизнь. Николаю выдали отношение от совхоза, суть которого в том, что после окончания техникума предприятие обязуется его трудоустроить. Поехал Самарин в райцентр, сдал успешно экзамен в Александровский зооветеринарный техникум на отделение ветеринарии.
Возвратился домой, ждет 1 сентября. А вызова на учебу нет и нет. Вот уже и первый день осени остался позади. И ученики, и студенты сели за парты. Только Николай оказался не у дел. И тогда он принимает решение: поехать в техникум.Приехал, в списках поступивших себя не увидел. Пошел в учебную часть, по аудиториям. Студент оказался настойчивым и своего добился. Выяснил все, оказывается, не внесли его в списки по нелепой случайности. Исправили ситуацию. И вот Николай уже полноправный студент. Четыре года, с 1970-го по 1974-й, пролетели быстро и вместили в себя массу интересного и поучительного. Здесь и проблемы с химией, которая в школе давалась нелегко. Пришлось самому наверстывать упущенное. Наверстал. Преуспел в учебе, занимался самообразованием. В общественной жизни также все было в порядке. В летний период, на каникулах, стройотряд техникума, где Самарин был комиссаром, выезжал на строительство общежития для техникума, трудились и на стройках молокозавода. В стройотрядах в советское время студенческий труд оплачивался достойно. Николай мог вполне обеспечить себя. Да и во время учебных семестров время бездумно не терял – подрабатывал на кирпичном заводе, где за смену получал десять полноценных советских рублей. Это при том, что стипендия – 20 рублей в месяц. И вот – выпускные экзамены. Вручение диплома. Впереди – взрослая жизнь!
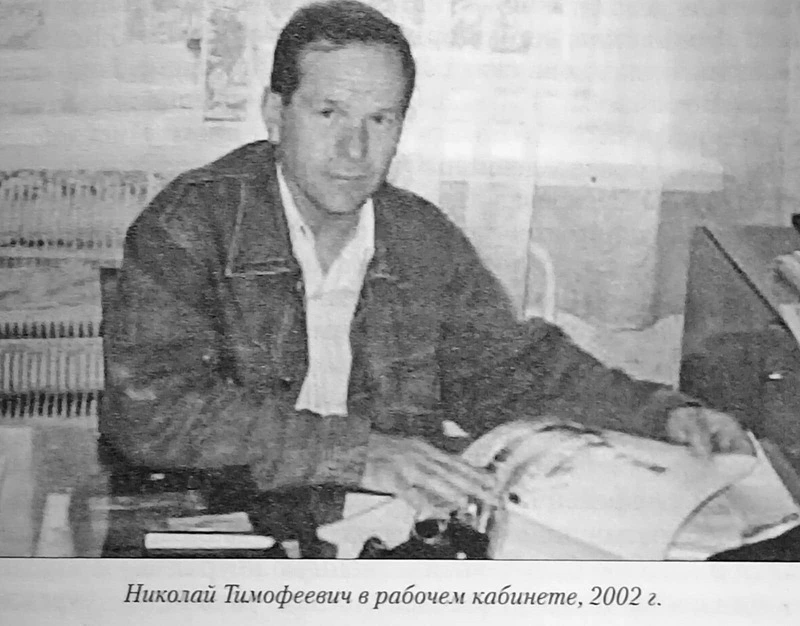
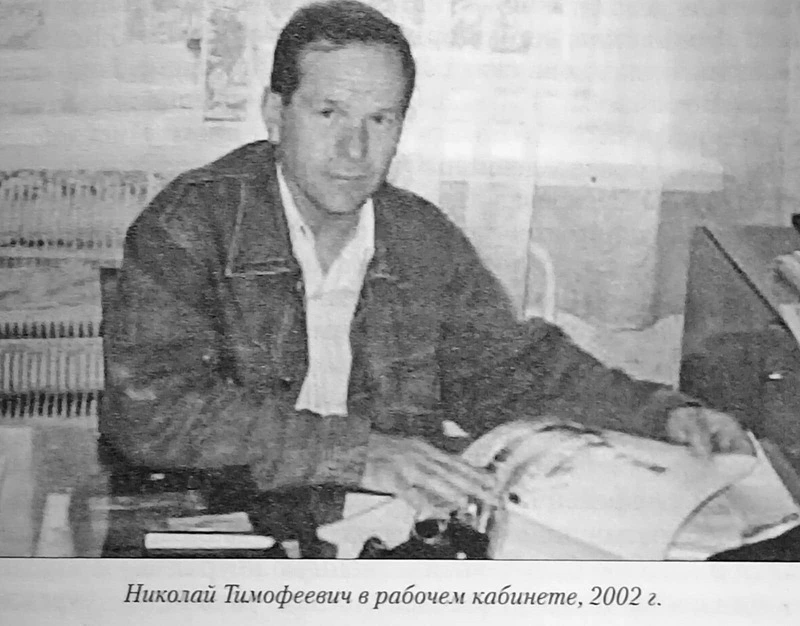
«А Я БРОСАЮ КАМЕШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА…»
Согласно договору между студентом и совхозом, молодой специалист должен был возвратиться домой, на родную ферму. И здесь в дальнейшую судьбу выпускника техникума вмешался его Величество случай в лице приятеля, у которого и жена оказалась беременна, и родители-инвалиды. Попросил друг поменяться местами, а распределение он получил, как уже может догадаться проницательный читатель, – на Сахалин. Николай рад помочь товарищу, он не против поехать в далекий неизвестный край. Не против оказалось и руководство совхоза – главное, что молодой специалист в итоге вышел на работу, как и было оговорено…
20 марта 1974 года. Самолет, на котором Николаю пришлось лететь первый раз в жизни, совершил посадку в аэропорту островной столицы. В мыслях: «Три месяца отработаю, заберут в армию. А после – домой, на Ставрополье». Отработал. И – «немного» задержался на Сахалине. Уже 51 год пошел.
Но это, намного позже. Сейчас же – назначение в Тымовский район: село Кировское, совхоз «Краснореченский». Зима в том году была снежная, весна не спешила с полноценным приходом. Поезд по японской узкоколейке медленно, но уверенно, 12 часов, продвигался практически в снежном туннеле до конечной станции.
Павел Артемович Леонов – первый секретарь Сахалинского обкома партии. Его имя и авторитет в то время гремели далеко за пределами острова. По его указанию, для снабжения нефтяников севера Сахалина диетическим питанием в «Краснореченском» обустроили кроликоферму. Начинающего специалиста назначили ветеринарным врачом. Все бы ничего, но дело в том, что в хозяйстве – свыше 300 пушистых грызунов. А в техникуме студенты изучали в основном овцеводство и животноводство. Что касается кроликов, то Николай раньше видел их раз в жизни. Но есть одно бесценное качество, всегда выручавшее Самарина в самых трудных непредвиденных обстоятельствах жизни: он не стеснялся признаваться в своем незнании того или иного профессионального вопроса. И это помогало в работе. Пошел к управляющему: «Я не тот специалист, который нужен ферме». В ответ ему принесли из дома атлас болезней – изучай! Делать нечего. На конкретных вскрытиях изучал желудки здоровых и больных кроликов, примечал все подробности, особенности, сравнивал, запоминал.
Дело шло так успешно, что вскоре Николай Тимофеевич стал одним из лучших специалистов по кролиководству во всей Сахалинской области! Неоценимую помощь оказали и мама, выславшая сыну на далекий остров методическую литературу по разведению кроликов.
В совхозе «Краснореченское», где Самарин начинал свою трудовую деятельность, помимо профессиональных проблем, выявились еще и житейские. Одна из них – сильные морозы. На дворе – весна, но морозы держались до минус 40 градусов! Николай же приехал на Сахалин в выпускном костюме: брюки – клеш, а к ним – туфли остроносые, последний писк моды. Месяц пришлось спать, не раздеваясь, в комнате, рядом с печкой на панцирной кровати. И вновь письмо родителям: высылайте теплые вещи, ваш сын замерзает! Вскоре получил весточку из дома – теплый овчинный полушубок, носки да варежки, любовно связанные мамой. Овчинный полушубок до сих пор хранится как память.
Сегодня с улыбкой вспоминает Николай Тимофеевич начало своей трудовой биографии, как ему было нелегко, и как он мечтал о скором призыве в ряды советской армии. Дело в том, что, как молодому специалисту, ему сделали до осени отсрочку. Ребята на работе успокаивают: «Не переживай, настанет лето, фестиваль будет, с баянами мужики начнут бродить, все будет хорошо». И вот лето настало, а ни фестиваля, ни баянистов нет. Спрашивает Самарин: «Когда фестиваль начнется?». Смеются парни, оказалось, что «фестивалем» местные называют организацию сбора грибов и ягод. А «баяны» – это короба, которые за спинами у грибников и ягодников на лямках крепятся.
Вот и осень. И вновь не призывают нашего героя в армию. Оказалось, что горком наложил свое вето. Но и Николай – уже не тот наивный парнишка. Пошел на прием к первому секретарю горкома. В итоге договорились, что после службы он возвращается на кроликоферму и продолжает трудиться.


ТРУДОВЫЕ БУДНИ
1976 год. Демобилизация, возвращение на остров, свадьба, ожидание рождения первенца, закрытие фермы, оказавшейся убыточной, переезд в зверосовхоз «Поронайский» на должность заместителя главного ветеринарного врача – все смешалось у Николая Самарина!
1981–1985 годы работы в Поронайске – одни из самых плодотворных в профессиональном становлении Николая Тимофеевича. Все идет своим чередом: семья, дети, дом, рабочий коллектив, самообразование, лечение животных – жизнь полна и разнообразна. Скучать не приходится. И здесь – новый вызов в профессиональной карьере: предложение занять должность главного ветеринарного врача зверосовхоза «Соловьевский». Раздумывать долго не приходится – такие предложения каждый день не поступают! Тем более что Самарин по рабочим делам однажды уже побывал в Соловьевке и сразу, бесповоротно и навсегда, влюбился в это место.
1985 год. Николай Тимофеевич приступает к выполнению обязанностей главного ветеринарного врача зверосовхоза «Соловьевский», в котором занимались разведением норок. В 70–80-е годы слава предприятия гремела далеко за пределами страны. И это – не голословное утверждение. Пушнина «Соловьевского» пользовалась заслуженной популярностью. Самарин вывозил ее на Ленинградский аукцион, где проводился отбор среди отечественных производителей для дальнейшей отправки ценного груза за рубеж.
И все же не все было так гладко. К моменту приезда Николая Тимофеевича в совхоз, в пушном хозяйстве ощущался спад производства. Выражался он и в уменьшении количества щенков на норку до трех. Тогда как в норме – 4,5-5 особей. Пришлось принимать меры, связанные с соблюдением санитарных норм. Первым делом – наведение порядка в учете кормов (пригодилась школа Поронайска!). В кормоцехе были внедрены санитарные дни – работники тщательно промывали стены, чаны, мясорубки. Был организован завоз кормов через весовую. Помимо кормоцеха, навели порядок и в холодильнике. С приходом главного ветеринарного врача рыбу, добываемую в рыбколхозе имени Кирова стали промывать, чтобы отсечь весь ненужный мусор (ракушки, осколки стекла, грязь).
Также Николай Тимофеевич способствовал открытию в совхозе лаборатории для первичного исследования кормов. И сразу – нешуточные страсти. Взяли анализы у хранившейся в холодильнике партии рыбы в количестве 110 тонн. Вердикт: на корм норкам нельзя. Падеж идет в том числе и из-за некачественного питания. Партию рыбы надо изымать. Директор зверосовхоза – против. Николай Тимофеевич договорился с главным ветеринарным врачом треста сахалинского зверопрома о проверке, которая выявила правильность решения Самарина: рыба – не годится. Ее отвезли на птицефабрику и свиноферму, обитатели которых оказались менее привередливы к корму и с удовольствием его съели.
В качестве «поощрения» Николая Тимофеевича назначили заместителем директора по производству без отрыва от основной работы. А если заместитель – значит ответственный за заготовку кормов. Выехал он в рыбколхоз имени Кирова, договорился о быстрой доставке свежей рыбы, совместно продумали ее логистику. И дело пошло, потихоньку принятые меры дали свои результаты, все наладилось. А следовательно, у работников – хорошие премиальные, звероводам – почет и уважение!
Именно на 90-е годы пришелся пик промышленного производства пушнины. Спад – на период перехода страны к рыночным отношениям. В год гайдаровской реформы, 1994-й, взяв кредиты в «Агропромбанке», зверосовхозы Сахалинской области не смогли с ними рассчитаться, и дела сразу пошли на убыль. И уже скоро все они «приказали долго жить»...
ГЛАВА СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Так и остался Николай Тимофеевич (впрочем, как и сотни тысяч граждан некогда великой страны!) без работы. Но жители села уже заметили его лучшие качества – честность, принципиальность, профессиональный подход к работе. И когда освободилось место председателя сельсовета, инициативная группа жителей Соловьевки выдвинула кандидатуру Самарина на эту «почетную» должность. Валерий Осадчий, мэр Корсаковского района, собрал сельский сход, на котором все единодушно, кроме одного человека, подняли руки «за». Мотивировка же женщины, проголосовавшей против, была такой: у него своя корова есть, значит, будет ей заниматься, а работа ему – побоку. Но мэр вынес свой вердикт: «Хорошо, что корова есть. Если он дома – хозяин, то и для общества поработает!».
Время показало правильность и разумность слов главы района. По сути дела, 20 августа 2001 года, в свой первый рабочий день, Николай Тимофеевич пришел к «разбитому корыту»: котельная не функционирует, крыша у здания администрации села протекает, школа к приему учащихся не готова, топлива к отопительному сезону не было… С чего начинать? Голова идет кругом.
Пошел по друзьям, там банка краски, там еще что-нибудь. И так – с миру по нитке. Глаза бояться – руки делают. В котельной отремонтировали два котла из четырех. Отопительный сезон прошли хорошо, хотя угля порой был мизер. Тяжело было, но люди работали. Вот и вторая зима на носу. Из резервного фонда МЧС выделили на котельную села два новых котла. А топлива катастрофически не хватает. Стоят сильные морозы, отопительная система может выйти из строя. И тогда глава Соловьевки решается на отчаянный шаг. По трассе Южно-Сахалинск – Корсаков везли уголь для ЦРК. Николай Тимофеевич попросил местных ребят, сотрудников ГАИ, завернуть три машины с углем на котельную села. Завернули. Спасли отопительную систему. Помогли и военные – давали горелую отсыпь, которая также шла на отопление.
Жители благодарили Самарина. А в администрации района от мэра – нагоняй! Зато по весне Николая Тимофеевича всем ставили в пример, как надо работать. К слову, во многих селах района в тот год отопительные системы были разморожены…
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Во время строительства завода СПГ в Пригородном в село заехала бригада строителей из Турции, хотевшая снять на несколько месяцев помещение для жилья. Николай Тимофеевич предложил им отремонтировать здание сельской конторы и жить там, сколько душе угодно. Осмотрели турецкие строители здание и отказались – фронт работ слишком большой! Уехали. Но оказалось, что впереди еще будет с ними встреча.
Однажды заехал глава сельской администрации в Районные электрические сети, заглянул в кабинет директора предприятия. А там – турецкие рабочие сидят, обсуждают что-то с руководством. Как выяснилось впоследствии, они не могли получить согласование на подключение сетей из-за незнания русского/турецкого языков. Помощь Николая Тимофеевича пришлась как нельзя кстати. Когда он заговорил с иностранцами на их родном языке, последние были в шоке. Дело сдвинулось с мертвой точки, договор с турками подписан. Добро всегда возвращается сторицей. В благодарность за «большое» дело, которое Самарин сделал для турецких рабочих, они пообещали ему предоставить возможность съездить на родину. Николай Тимофеевич отказался: «Мне нужен ремонт в здании конторы». Через неделю на объекте работа закипела. Спустя месяц в здании был сделан ремонт.
Проработал герой нашего очерка в должности главы Соловьевской администрации 14 лет. Первые 5 лет – самые тяжелые. Но благодаря труду жителей села, помощи администрации Корсаковского района, сторонних организаций и предприятий удалось с честью выйти из сложного положения. Николай Тимофеевич просил передать через газету низкий поклон и слова благодарности всем, с кем ему довелось поработать в эти трудные годы.
В его семейном архиве, который он бережно собирает и сохраняет, – множество поощрений, почетных грамот, начиная от областной Думы и губернатора Сахалинской области, заканчивая грамотами, полученными на местном, корсаковском, уровне.
Был занесен Николай Тимофеевич и на районную Доску почета. Соловьевка – его родина. Здесь живет его дочь, один сын – в Дачном, еще один проживает в Аниве. У счастливого дедушки – восемь внуков. Жизнь – удалась, и она продолжается!
Герою нашего очерка идет 73-й год. Но, глядя на его подтянутую фигуру, на озорные, чуть насмешливые глаза, никогда не дашь ему его года. Как смеется Николай Тимофеевич, все дело – в распорядке дня. Дел – невпроворот. Все домашнее хозяйство держится на нем. Подъем – в пять часов, и весь день пролетает как один миг. С супругой Валентиной Ивановной вместе уже 48 лет, не за горами золотая свадьба.
Поездку в Турцию Николай Тимофеевич пока не планирует. Но жизнь – еще впереди, почему и не съездить? И если ехать, то только с внуками. Показать им родные места дедушки, рассказать, как могла сложиться его судьба, если бы не возвращение в Советский Союз, в Россию, ставшей ему Родиной.